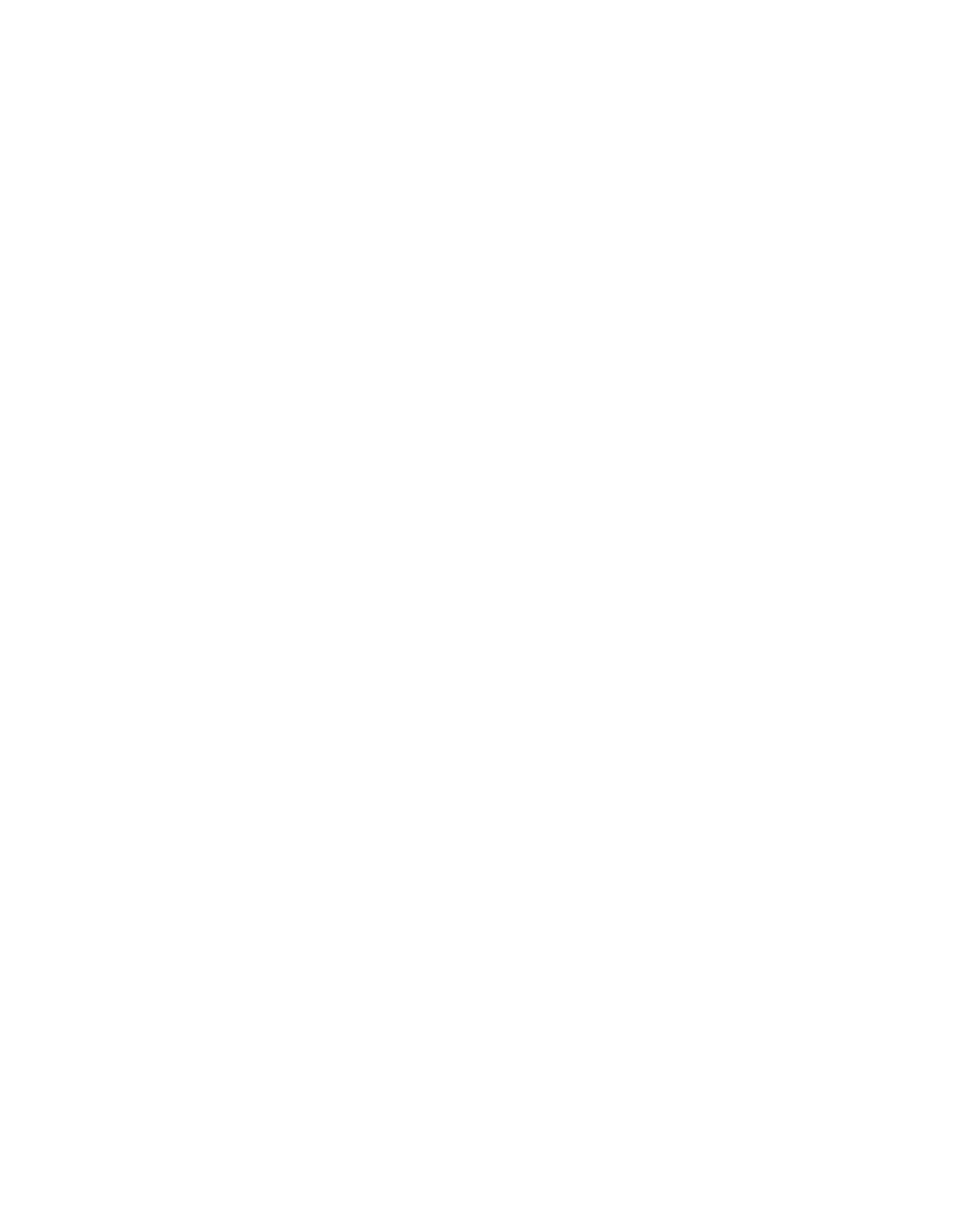Смерть бизнеса — моя смерть?
Бизнес терпит крах. Если первая волна изоляции и пандемии включила во многих резервные генераторы, то сегодняшняя ситуация пережгла от напряжения пробки. Сил нет, энергия на нуле.
Меня зовут Тимур Валеев. Я психоаналитический коуч, психолог. С начала кризиса провел под сотню встреч с клиентами из бизнеса. И, знаете, почти всегда мы находили выход из замкнутого круга. Внешний ужас, который казался клиентам непреодолимым, оказывался лишь ловушкой их бессознательного. Они летели в пропасть, окутанные своими фантазиями и ужасом неопределенности будущего.
Я расскажу один случай клиентки, которая впервые пришла ко мне больше года назад. Тогда она столкнулась с невозможностью развивать и масштабировать свой бизнес. В этот раз Екатерина позвонила в разгар первой волны пандемии. Сквозь слезы договорились о встрече. Ей 45 лет и у нее сеть детских садов по всей Москве.
Меня зовут Тимур Валеев. Я психоаналитический коуч, психолог. С начала кризиса провел под сотню встреч с клиентами из бизнеса. И, знаете, почти всегда мы находили выход из замкнутого круга. Внешний ужас, который казался клиентам непреодолимым, оказывался лишь ловушкой их бессознательного. Они летели в пропасть, окутанные своими фантазиями и ужасом неопределенности будущего.
Я расскажу один случай клиентки, которая впервые пришла ко мне больше года назад. Тогда она столкнулась с невозможностью развивать и масштабировать свой бизнес. В этот раз Екатерина позвонила в разгар первой волны пандемии. Сквозь слезы договорились о встрече. Ей 45 лет и у нее сеть детских садов по всей Москве.
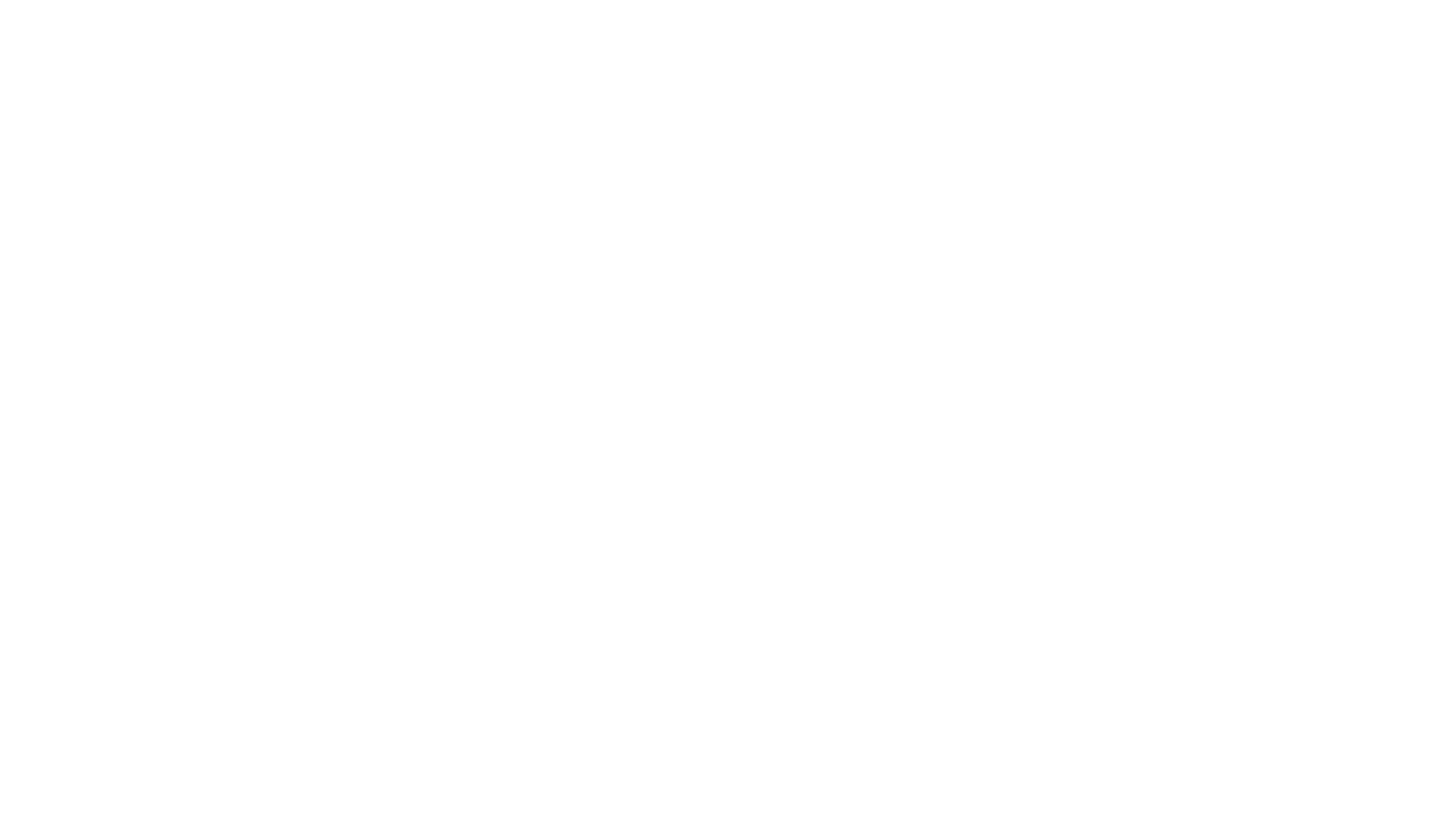
Смерть бизнеса - моя смерть?
Такой серой и безжизненной я не видел ее никогда. Взлохмаченные волосы, колкий и пустой взгляд, осунувшиеся плечи и несколько крупных морщин.
- Я все теряю, — сказала она. — Мне придется все закрывать, всех увольнять.
На мой вопрос, в состоянии ли она рассказать подробнее о происходящем, она зарыдала. Даже не зарыдала, а завыла. Тоскливо так, безжизненно, будто в пустоту темной ночи. Сквозь этот вой я смог понять, что школы и детские сады ушли на карантин. Бизнес на грани разорения, аренду платить нечем, а собственники помещений не идут навстречу, долбанное государство не помогает.
Минут через тридцать, когда поток слез пошел на убыль, а цвет ее кожи стал принимать естественный цвет, я спросил:
- Чем я могу помочь?
Она посмотрела на меня. Взгляд был все еще тусклый, но уже не злой.
- Я хочу выжить.
- Вы связываете собственную жизнь с выживанием бизнеса?, — уточнил я.
Она замолчала. Мы просидели в тишине минут пять. По ее утомленному лицу гуляли тени. Внутри что-то происходило. Я молчал и наблюдал.
- Давай найдем выход.
Эта фраза была сказана с чувством более решительным. Екатерина ответила на предыдущий вопрос, но не озвучила свои размышления. От рыданий и тоски мы перешли к внутренней злости. Она хотела действий, пути, побега. Всего, что могло ее спасти или дать надежду на спасение.
- Как думаете, это надолго?, — уточнил я.
Она завелась не на шутку.
- Это должно закончиться прямо сейчас. Иначе все, что я делала, умрет.
- Давайте пофантазируем, что это надолго.
- Нет! Это должно закончится прямо сейчас. Так не может больше продолжаться
- Я все теряю, — сказала она. — Мне придется все закрывать, всех увольнять.
На мой вопрос, в состоянии ли она рассказать подробнее о происходящем, она зарыдала. Даже не зарыдала, а завыла. Тоскливо так, безжизненно, будто в пустоту темной ночи. Сквозь этот вой я смог понять, что школы и детские сады ушли на карантин. Бизнес на грани разорения, аренду платить нечем, а собственники помещений не идут навстречу, долбанное государство не помогает.
Минут через тридцать, когда поток слез пошел на убыль, а цвет ее кожи стал принимать естественный цвет, я спросил:
- Чем я могу помочь?
Она посмотрела на меня. Взгляд был все еще тусклый, но уже не злой.
- Я хочу выжить.
- Вы связываете собственную жизнь с выживанием бизнеса?, — уточнил я.
Она замолчала. Мы просидели в тишине минут пять. По ее утомленному лицу гуляли тени. Внутри что-то происходило. Я молчал и наблюдал.
- Давай найдем выход.
Эта фраза была сказана с чувством более решительным. Екатерина ответила на предыдущий вопрос, но не озвучила свои размышления. От рыданий и тоски мы перешли к внутренней злости. Она хотела действий, пути, побега. Всего, что могло ее спасти или дать надежду на спасение.
- Как думаете, это надолго?, — уточнил я.
Она завелась не на шутку.
- Это должно закончиться прямо сейчас. Иначе все, что я делала, умрет.
- Давайте пофантазируем, что это надолго.
- Нет! Это должно закончится прямо сейчас. Так не может больше продолжаться
Я молчал. Просто смотрел на нее.
Через пару минут она начала говорить.
Через пару минут она начала говорить.
- Наверное, ты прав, нужно закрывать бизнес сейчас. Если тянуть, я влезу в долги и не смогу открыть что-то новое. Спасибо за инсайт. Я знаю, что делать.
- Разве я что-то подобное говорил?
- Да, ты только что сказал мне, что это надолго.
- Да, я предложил пофантазировать. Но только на тему, что будет, если все это надолго.
- Я нашла решение, я закрою свой бизнес.
- Что будет не с вами, а с людьми, с вашими клиентами, если все это надолго?
- Все сидят дома, начали ругаться, потом начнут разводиться. Как вообще можно сидеть всей семьей дома, работать на удаленке с детьми?
- Я читал, что дети проще переносят вирус. Есть мнение, что детские сады нужно открывать.
- Я тоже про это читала, но даже если мы откроемся, наши клиенты начнут экономить и сидеть с детьми дома, так как на работу им ходить не нужно.
На нашу встречу через неделю Екатерина опоздала на пять минут. Я слышал, как она твердо шагала по коридору и громко разговаривала по телефону. На секунду шум затих и она вошла. Новое платье, уложенные волосы, стремительный взгляд.
- Я ничего не делала, я всю неделю разговаривала со своими клиентами. Обзвонила семей двадцать.
- Поделитесь, что важного было в этих разговорах?
- Они очень сильно ругались. Они устали. Просили меня найти лазейки, чтобы открыть детские сады. И, знаешь, я поняла. Мы можем открыть дежурные группы. Да, не одну дежурную группу, а несколько. У меня есть выход.
- То есть решение закрыть бизнес уже не актуально?
- А кто предлагал закрыть бизнес? Нет, конечно. Если это все надолго, то они по квартирам все окончательно взвоют. Я хочу открыть еще несколько детских садов. Но очень маленьких, на одну группу. Меньше детей, меньше заразы.
Мы встречались еще несколько раз. Екатерина рассказывала о росте бизнеса, была энергична, делилась успехами и уверяла меня, что кризис — момент рывка, нужно пользоваться этим. Я не спорил, все больше слушал.
На последней сессии она рассказала, какой она чуткий и проницательный бизнесмен, что несколько лет назад выбрала такую выгодную сферу, как детские сады. И в жизни ей везет и все получается.
На последней сессии она рассказала, какой она чуткий и проницательный бизнесмен, что несколько лет назад выбрала такую выгодную сферу, как детские сады. И в жизни ей везет и все получается.
На нашей международной платформе PSY.one представлены специалисты, которые могут помочь в вашей сложной жизненной ситуации. Мы работаем с клиентами со всего мира. Вам нужен лишь компьютер или телефон и доступ в интернет.